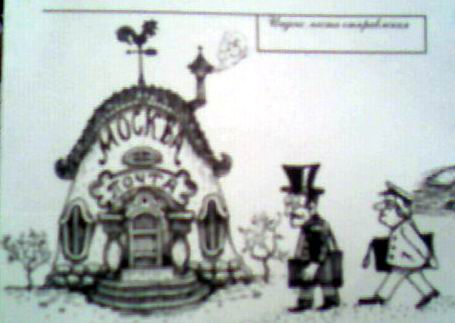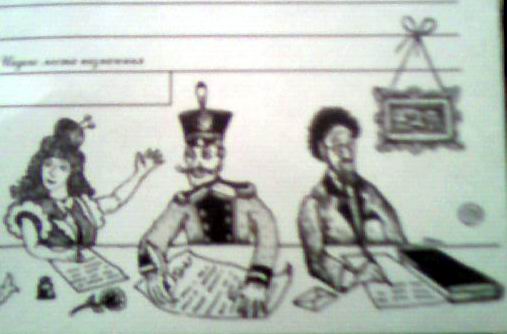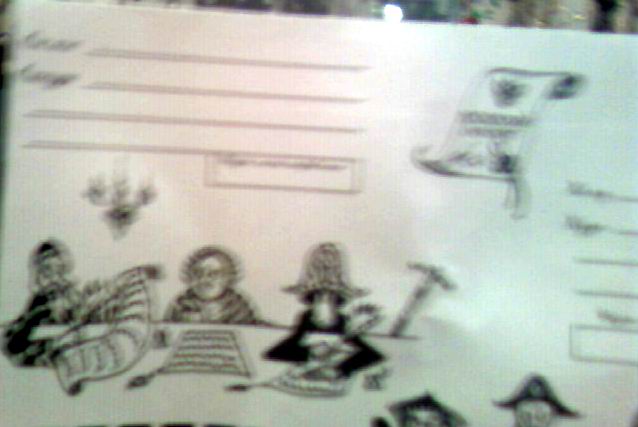laughter lines run deeper than skin (с)
Вот и мне, наконец, посчастливилось попасть в Театр кукол на "Концерт для Чичикова с оркестром". Были попытки раньше, но сорвалось - видимо, для того, чтобы попасть на такую пра-авильную дату. Пятница, тринадцатое – чем еще заняться, как не скупкой душ?
как обычно, все феерично
... и сатана, сиречь Мефистофель, там правил бал (о-очень конкретный бал, можете мне поверить). С классическим ухмыляющимся профилем, в черно-алом плаще (как и подобает, по Гоголю, true-злодею), и с поразительной живой рукой дирижера – неисчерпаемость фантазии мастеров по куклам уже не удивляет, но неизменно восхищает. И пел он свою классическую арию (на минуточку, написанную для баса. Еще на минуточку, я до сих пор помню Церлину. Слов нет, одни аплодисменты).
Нет, в самом деле, если лично мне кто-нибудь теперь предложит торговать мертвыми душами – не соглашусь ни за какие коврижки. Адова работа. Бедный Чичиков. Легче булыжники в гору таскать, чем всех этих душевладельцев утаптывать, умасливать, запутывать и запугивать. Тут даже Чичиков-кукла, даром что с профилем Наполеона, один не справляется – каждый раз в драматический момент подписания купчей в отношения с куклами-помещиками вступает исключительно Чичиков-кукловод. Максим Мишаев, кстати, меня совершенно ошеломил своим преображением: если в других ролях он достаточно прямоугольный и резкий, то здесь, под стать своему герою, округляется и приобретает плавность в движениях.
Нет, не то чтобы трудное чичиковское существования была сама по себе особенным открытием по сравнению с исходным текстом. Но персонажи-куклы тут – именно такие, какими рисовал их иллюстратор, и от этого как-то необычайно попадают в «карикатурную» стихию поэмы. Да еще – ведь концерт же! – поддерживает их в этом музыкальная часть. Уж на что, помнится, претерпел наш герой от буйного Ноздрева, но тут к этому еще прилагается, в лучших традициях театра, хор цыган с уморительной жабообразной примой! А столпы общества в лице местной и федеральной власти – о, какие они там... столпы! И такие знойные танго или томные вальсы умудряется выделывать с ними Чичиков – залюбуешься, но искренне посочувствуешь.
И такие знойные танго или томные вальсы умудряется выделывать с ними Чичиков – залюбуешься, но искренне посочувствуешь.
Мне-то, с моей наивностью, еще казалось, что хоть на Манилове наш предприниматель как-то отдохнул. Ага, щас. Это мне раньше воображения не хватало. Вас когда-нибудь топили в кастрюле сиропа? Теплого? Малинового? Поварешкой подливая сверху, едва попытаетесь глотнуть воздуха? Вот. Ощущения непередаваемые, это просто надо увидеть и прочувствовать. Я уж не говорю о том, что даже классически застрять в дверях вместе с подобным персонажем – дело довольно небезопасное, очень уж натура, того-с, увлекающаяся. Впрочем, шашки с темпераментным Ноздревым тоже обойдутся Чичикову не легче, а ведь впереди его еще ждет пресловутая дама, приятная во всех отношениях – отнюдь не кукольный Денников, в полный рост и во всей его имперсонаторской красе. Зал будет погибать от смеха в течение пятнадцати минут.
На самом деле, лично мне повезло в первый раз прочитать «Мертвые души» вовремя и добровольно, и я помню, что это было уморительно смешно. (И «Вечера» тоже, зря Веллер в легендарных хохочущих наборщиков не верит). От лица всех, кто за торопливыми требованиями школьной программы об этом не узнал или позабыл, еще одна неизмеримая благодарность всем создателям спектакля. Что ценно вдвойне, никаких отсебятин, все четко по тексту! И каждая мелочь «играет», вплоть до подлинной, хоть в музей, мебели Собакевича, таинственной пропасти на подступах к дому Манилова или антикварного плюшкинского кулича. Уж не говорю о таких персонажах, как две бабы, скандалящие из-за рака, пресловутая девчонка, не разбирающая сторон, или пьяненький зять Мижуев, чуть ли не висящий на сцене, как белье на веревке.
Ах да, и еще - оказывается, «Мертвые души» - это стэм Сиречь студенческая эстрадная миниатюра, где одновременно на сцене могут находиться только три актера. Вот так оно, в большинстве сцен, и происходит – диалог между Чичиковым, с одной стороны, и дуэтом Денников-Яковлева, с другой. Как обычно, происходит бесподобно. Сладчайшая и любовеобильная чета Маниловых так же убедительна, как тяжеловесный, медведистый Собакевич со своей остроносой Феодулией или уютно-рыхлая, временами заговаривающаяся Коробочка со своей столь же недалекой, но суматошной «девкой».
Сиречь студенческая эстрадная миниатюра, где одновременно на сцене могут находиться только три актера. Вот так оно, в большинстве сцен, и происходит – диалог между Чичиковым, с одной стороны, и дуэтом Денников-Яковлева, с другой. Как обычно, происходит бесподобно. Сладчайшая и любовеобильная чета Маниловых так же убедительна, как тяжеловесный, медведистый Собакевич со своей остроносой Феодулией или уютно-рыхлая, временами заговаривающаяся Коробочка со своей столь же недалекой, но суматошной «девкой».
А слуга Петрушка, оставшийся на сей раз, в порядке инфляции и индексации чичиковских долгов, без Селифана, преображается в Петрушку-куклу Да так и гоняет на птице-тройке по дурацким дорогам нашей грустной России, надетый на руку инфернальной кукловодши-Ирины Яковлевой с пышной шевелюрой и карнавальным бичом из блесток. В программке эта дама заявлена как «Чертова девка», и, сдается мне, подрабатывала она на своем веку то ли итальянской чумой (недаром к римским карнавальным фейерверкам прилагаются черные балахоны!), то ли нашенской холерой, которая и прошлась по окрестностям, готовя Чичикову урожай свежих усопших...
Да так и гоняет на птице-тройке по дурацким дорогам нашей грустной России, надетый на руку инфернальной кукловодши-Ирины Яковлевой с пышной шевелюрой и карнавальным бичом из блесток. В программке эта дама заявлена как «Чертова девка», и, сдается мне, подрабатывала она на своем веку то ли итальянской чумой (недаром к римским карнавальным фейерверкам прилагаются черные балахоны!), то ли нашенской холерой, которая и прошлась по окрестностям, готовя Чичикову урожай свежих усопших...
И, как на всяком карнавале, в полшаге от хохота поджидает и печаль, и трагизм. Центральный персонаж здесь, как в незабвенной телеэкранизации, автор. Но на сей раз подчеркнуто не похожий на Гоголя, ни на светлого, ни на темного. Ситуация решена в высшей степени красиво: ведь если «Мертвые души» - поэма, то и повествователь – Поэт. А поэт, известно, что такое – один из тяжелейших на свете диагнозов... Поэту всегда трудно. И в творчестве, где мучительно нащупывается любая верная нота, и в любви, где никак не встретиться глазами с возлюбленной, пусть даже светлейшей из светлых, небесной из небесных, "флейтой"-примадонной в оркестровке спектакля - лишь напеть ей "не пробуждай воспоминаний"... И соперничать за нее со своим "подлецом"-героем, и, летя всем своим существом к ней, обнаружить рядом только ту же "Чертову девку" (впрочем, Чичиков тоже вместо "славной бабешки" попадет совсем не в те объятия; так ему, собственно, и надо).
Вот и мается мятущаяся душа поэта, вот и мечется между родиной и чужбиной, смехом и горечью, небом и адом – прямо и в самом деле, как в «прологе на небесах» (а думаете, объектов пари между конкурирующими ведомствами в истории насчитывалось всего два?)
Гоголь, как известно, не только не добрался до своего «Рая», но и до края «Чистилища» не дошел. Потому и спектакль останавливается прямо на краю его «Ада» - да еще так, что, кажется, на сей раз окончательная победа за адским дирижером и его присными. Каким аккордом разрешит автор такое положение, догадаться трудно. Но, понятное дело, находит, как разрешить и как завершить. И сделает это - тоже, как всегда - впечатляюще. Даже если не под каждой нотой в финальном аккорде подпишешься. Но любовь, такая, о которой говорится в финале, чувствуется больше не в словах, а в том, что пропитывает спектакль сверху донизу - любовь к писателю и его поэме, любовь к своему делу, да, наверное, и к нам, грешным. Очень вдохновляющая на ответное чувство





как обычно, все феерично

... и сатана, сиречь Мефистофель, там правил бал (о-очень конкретный бал, можете мне поверить). С классическим ухмыляющимся профилем, в черно-алом плаще (как и подобает, по Гоголю, true-злодею), и с поразительной живой рукой дирижера – неисчерпаемость фантазии мастеров по куклам уже не удивляет, но неизменно восхищает. И пел он свою классическую арию (на минуточку, написанную для баса. Еще на минуточку, я до сих пор помню Церлину. Слов нет, одни аплодисменты).
Нет, в самом деле, если лично мне кто-нибудь теперь предложит торговать мертвыми душами – не соглашусь ни за какие коврижки. Адова работа. Бедный Чичиков. Легче булыжники в гору таскать, чем всех этих душевладельцев утаптывать, умасливать, запутывать и запугивать. Тут даже Чичиков-кукла, даром что с профилем Наполеона, один не справляется – каждый раз в драматический момент подписания купчей в отношения с куклами-помещиками вступает исключительно Чичиков-кукловод. Максим Мишаев, кстати, меня совершенно ошеломил своим преображением: если в других ролях он достаточно прямоугольный и резкий, то здесь, под стать своему герою, округляется и приобретает плавность в движениях.
Нет, не то чтобы трудное чичиковское существования была сама по себе особенным открытием по сравнению с исходным текстом. Но персонажи-куклы тут – именно такие, какими рисовал их иллюстратор, и от этого как-то необычайно попадают в «карикатурную» стихию поэмы. Да еще – ведь концерт же! – поддерживает их в этом музыкальная часть. Уж на что, помнится, претерпел наш герой от буйного Ноздрева, но тут к этому еще прилагается, в лучших традициях театра, хор цыган с уморительной жабообразной примой! А столпы общества в лице местной и федеральной власти – о, какие они там... столпы!
 И такие знойные танго или томные вальсы умудряется выделывать с ними Чичиков – залюбуешься, но искренне посочувствуешь.
И такие знойные танго или томные вальсы умудряется выделывать с ними Чичиков – залюбуешься, но искренне посочувствуешь. Мне-то, с моей наивностью, еще казалось, что хоть на Манилове наш предприниматель как-то отдохнул. Ага, щас. Это мне раньше воображения не хватало. Вас когда-нибудь топили в кастрюле сиропа? Теплого? Малинового? Поварешкой подливая сверху, едва попытаетесь глотнуть воздуха? Вот. Ощущения непередаваемые, это просто надо увидеть и прочувствовать. Я уж не говорю о том, что даже классически застрять в дверях вместе с подобным персонажем – дело довольно небезопасное, очень уж натура, того-с, увлекающаяся. Впрочем, шашки с темпераментным Ноздревым тоже обойдутся Чичикову не легче, а ведь впереди его еще ждет пресловутая дама, приятная во всех отношениях – отнюдь не кукольный Денников, в полный рост и во всей его имперсонаторской красе. Зал будет погибать от смеха в течение пятнадцати минут.
На самом деле, лично мне повезло в первый раз прочитать «Мертвые души» вовремя и добровольно, и я помню, что это было уморительно смешно. (И «Вечера» тоже, зря Веллер в легендарных хохочущих наборщиков не верит). От лица всех, кто за торопливыми требованиями школьной программы об этом не узнал или позабыл, еще одна неизмеримая благодарность всем создателям спектакля. Что ценно вдвойне, никаких отсебятин, все четко по тексту! И каждая мелочь «играет», вплоть до подлинной, хоть в музей, мебели Собакевича, таинственной пропасти на подступах к дому Манилова или антикварного плюшкинского кулича. Уж не говорю о таких персонажах, как две бабы, скандалящие из-за рака, пресловутая девчонка, не разбирающая сторон, или пьяненький зять Мижуев, чуть ли не висящий на сцене, как белье на веревке.
Ах да, и еще - оказывается, «Мертвые души» - это стэм
 Сиречь студенческая эстрадная миниатюра, где одновременно на сцене могут находиться только три актера. Вот так оно, в большинстве сцен, и происходит – диалог между Чичиковым, с одной стороны, и дуэтом Денников-Яковлева, с другой. Как обычно, происходит бесподобно. Сладчайшая и любовеобильная чета Маниловых так же убедительна, как тяжеловесный, медведистый Собакевич со своей остроносой Феодулией или уютно-рыхлая, временами заговаривающаяся Коробочка со своей столь же недалекой, но суматошной «девкой».
Сиречь студенческая эстрадная миниатюра, где одновременно на сцене могут находиться только три актера. Вот так оно, в большинстве сцен, и происходит – диалог между Чичиковым, с одной стороны, и дуэтом Денников-Яковлева, с другой. Как обычно, происходит бесподобно. Сладчайшая и любовеобильная чета Маниловых так же убедительна, как тяжеловесный, медведистый Собакевич со своей остроносой Феодулией или уютно-рыхлая, временами заговаривающаяся Коробочка со своей столь же недалекой, но суматошной «девкой». А слуга Петрушка, оставшийся на сей раз, в порядке инфляции и индексации чичиковских долгов, без Селифана, преображается в Петрушку-куклу
 Да так и гоняет на птице-тройке по дурацким дорогам нашей грустной России, надетый на руку инфернальной кукловодши-Ирины Яковлевой с пышной шевелюрой и карнавальным бичом из блесток. В программке эта дама заявлена как «Чертова девка», и, сдается мне, подрабатывала она на своем веку то ли итальянской чумой (недаром к римским карнавальным фейерверкам прилагаются черные балахоны!), то ли нашенской холерой, которая и прошлась по окрестностям, готовя Чичикову урожай свежих усопших...
Да так и гоняет на птице-тройке по дурацким дорогам нашей грустной России, надетый на руку инфернальной кукловодши-Ирины Яковлевой с пышной шевелюрой и карнавальным бичом из блесток. В программке эта дама заявлена как «Чертова девка», и, сдается мне, подрабатывала она на своем веку то ли итальянской чумой (недаром к римским карнавальным фейерверкам прилагаются черные балахоны!), то ли нашенской холерой, которая и прошлась по окрестностям, готовя Чичикову урожай свежих усопших... И, как на всяком карнавале, в полшаге от хохота поджидает и печаль, и трагизм. Центральный персонаж здесь, как в незабвенной телеэкранизации, автор. Но на сей раз подчеркнуто не похожий на Гоголя, ни на светлого, ни на темного. Ситуация решена в высшей степени красиво: ведь если «Мертвые души» - поэма, то и повествователь – Поэт. А поэт, известно, что такое – один из тяжелейших на свете диагнозов... Поэту всегда трудно. И в творчестве, где мучительно нащупывается любая верная нота, и в любви, где никак не встретиться глазами с возлюбленной, пусть даже светлейшей из светлых, небесной из небесных, "флейтой"-примадонной в оркестровке спектакля - лишь напеть ей "не пробуждай воспоминаний"... И соперничать за нее со своим "подлецом"-героем, и, летя всем своим существом к ней, обнаружить рядом только ту же "Чертову девку" (впрочем, Чичиков тоже вместо "славной бабешки" попадет совсем не в те объятия; так ему, собственно, и надо).
Вот и мается мятущаяся душа поэта, вот и мечется между родиной и чужбиной, смехом и горечью, небом и адом – прямо и в самом деле, как в «прологе на небесах» (а думаете, объектов пари между конкурирующими ведомствами в истории насчитывалось всего два?)
Гоголь, как известно, не только не добрался до своего «Рая», но и до края «Чистилища» не дошел. Потому и спектакль останавливается прямо на краю его «Ада» - да еще так, что, кажется, на сей раз окончательная победа за адским дирижером и его присными. Каким аккордом разрешит автор такое положение, догадаться трудно. Но, понятное дело, находит, как разрешить и как завершить. И сделает это - тоже, как всегда - впечатляюще. Даже если не под каждой нотой в финальном аккорде подпишешься. Но любовь, такая, о которой говорится в финале, чувствуется больше не в словах, а в том, что пропитывает спектакль сверху донизу - любовь к писателю и его поэме, любовь к своему делу, да, наверное, и к нам, грешным. Очень вдохновляющая на ответное чувство






@темы: Культпоходное




 )
)