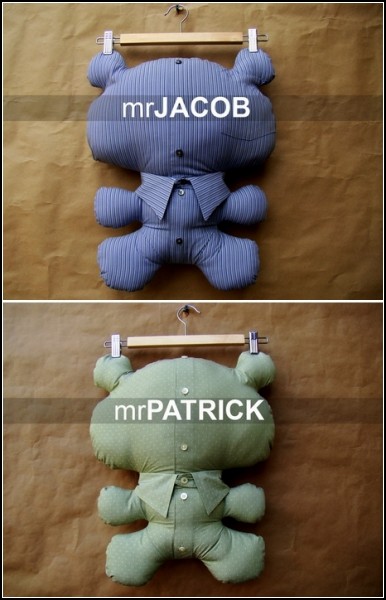воскресенье, 05 мая 2013
laughter lines run deeper than skin (с)
laughter lines run deeper than skin (с)
laughter lines run deeper than skin (с)
воскресенье, 10 февраля 2013
laughter lines run deeper than skin (с)
...годовая стрелка еще раз совершила оборот и весело щелкнула над ухом 



воскресенье, 03 февраля 2013
laughter lines run deeper than skin (с)
И теперь довольно часто, ожидая на станциях раненых, она безошибочно видела фигуры – безошибочно, с первого взгляда, она выделяла их из толпы, как будто инстинктивно. Словно набравшись смелости на фоне ужасов войны, многие даже из таких, как Стивен, выползли на свет из своих нор, вышли на дневной свет и предстали перед своей страной: «Что ж, вот я – примешь ты меня или отвергнешь?» И Англия приняла их, не задавая вопросов: они были сильными и умелыми, они могли занять место мужчин, они могли быть организаторами, если бы их способностям дали развернуться. Англия сказала: «Большое спасибо. Вы – то, что как раз нам нужно… в данный момент».
Итак, рядом с более удачливыми женщинами работала мисс Смит, что разводила в деревне собак; или мисс Олифант, что отроду ничего не разводила, кроме тяжелого груза комплексов; или мисс Тринг, что жила вместе с милой подругой на скромной окраине Челси. Признаться, у них у всех была одна большая слабость, слабость к униформе – но почему бы нет? Хороший работник достоин своего солдатского ремня. И потом, у них были далеко не слабые нервы, пульс их бился ровно во время самых жестоких бомбежек, ведь не бомбы тревожат нервы инверта, а скорее молчаливая безмолвная бомбардировка со стороны благонамеренных людей.
Но теперь даже по-настоящему милые женщины, те, что носили заколки в волосах, часто находили полезными своих менее ортодоксальных сестер. «Мисс Смит, заведите мне, пожалуйста, машину – двигатель так замерз, что я не могу заставить его работать». «Мисс Олифант, взгляните, пожалуйста, на эти счета – я так плохо управляюсь с цифрами». «Мисс Тринг, можно на время взять у вас шинель? Сегодня утром в кабинете просто арктический мороз!»
Не то чтобы эти женщины, всецело женственные, были меньше достойны похвал; может быть, даже больше, ведь они отдавали все, что могли, ничем не ограниченные – им не надо было смывать с себя никакого клейма на войне, им не было нужды защищать свое право на уважение. Они благородно откликнулись на зов своей страны, и пусть Англия этого не забудет. Но другие, те, которые тоже отдали все, что могли – пусть их не забудут тоже. Возможно, они выглядели несколько странно, а некоторые так наверняка, и все же на них редко глазели на улицах, хотя они шли довольно широким шагом – может быть, от застенчивости, а может быть, от смущенного желания заявить о себе, ведь часто это одно и то же. Они были частью вселенского потрясения, и потому их принимали. И, хотя на их солдатских ремнях не было мечей, на их шляпах и фуражках не было уставных кокард, в эти страшные годы был сформирован тот батальон, который никогда потом не был расформирован полностью. Война и смерть дали им право на жизнь, и жизнь казалась им сладкой, такой сладкой. Позже придут горечь и разочарование, но никогда больше эти женщины не согласятся отступить в тень, в свои углы и норы. Они нашли себя – так водоворот войны принес с собой внезапную месть.
(Рэдклифф Холл. Колодец одиночества)
Итак, рядом с более удачливыми женщинами работала мисс Смит, что разводила в деревне собак; или мисс Олифант, что отроду ничего не разводила, кроме тяжелого груза комплексов; или мисс Тринг, что жила вместе с милой подругой на скромной окраине Челси. Признаться, у них у всех была одна большая слабость, слабость к униформе – но почему бы нет? Хороший работник достоин своего солдатского ремня. И потом, у них были далеко не слабые нервы, пульс их бился ровно во время самых жестоких бомбежек, ведь не бомбы тревожат нервы инверта, а скорее молчаливая безмолвная бомбардировка со стороны благонамеренных людей.
Но теперь даже по-настоящему милые женщины, те, что носили заколки в волосах, часто находили полезными своих менее ортодоксальных сестер. «Мисс Смит, заведите мне, пожалуйста, машину – двигатель так замерз, что я не могу заставить его работать». «Мисс Олифант, взгляните, пожалуйста, на эти счета – я так плохо управляюсь с цифрами». «Мисс Тринг, можно на время взять у вас шинель? Сегодня утром в кабинете просто арктический мороз!»
Не то чтобы эти женщины, всецело женственные, были меньше достойны похвал; может быть, даже больше, ведь они отдавали все, что могли, ничем не ограниченные – им не надо было смывать с себя никакого клейма на войне, им не было нужды защищать свое право на уважение. Они благородно откликнулись на зов своей страны, и пусть Англия этого не забудет. Но другие, те, которые тоже отдали все, что могли – пусть их не забудут тоже. Возможно, они выглядели несколько странно, а некоторые так наверняка, и все же на них редко глазели на улицах, хотя они шли довольно широким шагом – может быть, от застенчивости, а может быть, от смущенного желания заявить о себе, ведь часто это одно и то же. Они были частью вселенского потрясения, и потому их принимали. И, хотя на их солдатских ремнях не было мечей, на их шляпах и фуражках не было уставных кокард, в эти страшные годы был сформирован тот батальон, который никогда потом не был расформирован полностью. Война и смерть дали им право на жизнь, и жизнь казалась им сладкой, такой сладкой. Позже придут горечь и разочарование, но никогда больше эти женщины не согласятся отступить в тень, в свои углы и норы. Они нашли себя – так водоворот войны принес с собой внезапную месть.
(Рэдклифф Холл. Колодец одиночества)
laughter lines run deeper than skin (с)
Мы все большие дураки перед природой. Мы придумываем свои правила и зовем их la nature; мы говорим – она делает то, она делает это. Дураки! Она делает то, что хочет, а нам она делает длинный нос.
(Рэдклифф Холл. Колодец одиночества)
(Рэдклифф Холл. Колодец одиночества)
Итак, я закрываю еще одну прореху в своей картине мира, и на другой чашке весов, напротив "Гранатовых джунглей", у меня теперь тут будет "Колодец одиночества" (опционально - колодезь, кому как), знаковый текст первой волны лесбийской литературы. Автор книги - Рэдклифф Холл, "в миру" - Маргерит Рэдклифф-Холл. Оригинал лежит на Гутенберге, здесь лежит мой перевод
fgpodsobka.narod.ru/well.zip
здесь, традиционно, немного имхи с цитатами
А здесь, совершенно не традиционно, лежат картинки - во-первых, взамен комментариев, от которых на сей раз я практически отказываюсь, а кто такой Евгений Сандов, каждый сам найдет (разве что упоминаемые в тексте "индийские клюшки" - это вот так, и их действительно выжимают, а ни во что ими не играют). Во-вторых, английская природа, среди которой родилась героиня, удивительно красива, а остальные места, в которых их там заносит, тоже привлекательны - я не могу это упустить


картинки и немножко саундтрека
laughter lines run deeper than skin (с)
А вот этот текст для меня стал неожиданностью - Оруэлла я не очень люблю, и это не совсем рациональное чувство, и, оказалось, его могло бы не быть, если бы этот текст был когда-то прочитан. По-моему, он обладает главным достоинством биографического эссе - способностью рассказать о чьей-то жизни так, чтобы заинтересовать человека, даже далекого от предмета рассмотрения.
Встреча с Джорджем Оруэллом
«Оруэлл говорил мне, что страдания бедного и неудачливого мальчика в приготовительной школе, может быть, единственная в Англии аналогия беспомощности человека перед тоталитарной властью и что он перенес в фантастический Лондон 1984 "звуки, запахи и цвета своего школьного детства"». Но об этом и без свидетельств ясно говорят отрывки из книги о детстве: ужас и одиночество ребенка, вырванного из тепла родительского дома в беспощадный и непонятный мир, холод, пища, вызывающая отвращение, боль и унижение физических наказаний — наказаний не за проступки, а за неудачи и непроходящее чувство вины.
В приготовительной школе он «впервые познал, что закон жизни — постоянный триумф сильных над слабыми. Я не сомневался в объективной правильности этого закона, потому что я не знал других. Разве могут богатые, сильные, элегантные, модные и знатные быть неправы? Но с самых ранних лет я знал, что субъективный конформизм невозможен. В глубине души, в моем внутреннем я, жила тайна разницы между моральным долгом и психологическим фактом.
Я не мог ни изменить этот мир, ни покорить его, но я мог признать свое поражение и из поражения сделать победу».
Большой победой стипендиата преп-скул было поступление в привилегированный колледж Итон — колыбель английской элиты. Но, окончив Итон, он сознательно сделал поражение из своей победы: вместо универ¬ситета уехал служить полицейским в Бирму. Много позже это поражение обернулось победой — романом «Дни в Бирме», сделавшим ему вместе с автобиографически-документальной повестью «Собачья жизнь в Париже и Лондоне» небольшое, но добротное литературное имя — Джордж Оруэлл. Это был не псевдоним, а как бы подлинное имя, вытеснившее прежнее, природное — Эрик Артур Блэр, аристократическое и изысканное. Замена глубоко продумана: Джордж — синоним англичанина, Оруэлл — река в северной английской деревушке. Имя — «всехнее», простое, грубоватое по артикуляции.
Виктория Чаликова
Встреча с Джорджем Оруэллом
«Оруэлл говорил мне, что страдания бедного и неудачливого мальчика в приготовительной школе, может быть, единственная в Англии аналогия беспомощности человека перед тоталитарной властью и что он перенес в фантастический Лондон 1984 "звуки, запахи и цвета своего школьного детства"». Но об этом и без свидетельств ясно говорят отрывки из книги о детстве: ужас и одиночество ребенка, вырванного из тепла родительского дома в беспощадный и непонятный мир, холод, пища, вызывающая отвращение, боль и унижение физических наказаний — наказаний не за проступки, а за неудачи и непроходящее чувство вины.
В приготовительной школе он «впервые познал, что закон жизни — постоянный триумф сильных над слабыми. Я не сомневался в объективной правильности этого закона, потому что я не знал других. Разве могут богатые, сильные, элегантные, модные и знатные быть неправы? Но с самых ранних лет я знал, что субъективный конформизм невозможен. В глубине души, в моем внутреннем я, жила тайна разницы между моральным долгом и психологическим фактом.
Я не мог ни изменить этот мир, ни покорить его, но я мог признать свое поражение и из поражения сделать победу».
Большой победой стипендиата преп-скул было поступление в привилегированный колледж Итон — колыбель английской элиты. Но, окончив Итон, он сознательно сделал поражение из своей победы: вместо универ¬ситета уехал служить полицейским в Бирму. Много позже это поражение обернулось победой — романом «Дни в Бирме», сделавшим ему вместе с автобиографически-документальной повестью «Собачья жизнь в Париже и Лондоне» небольшое, но добротное литературное имя — Джордж Оруэлл. Это был не псевдоним, а как бы подлинное имя, вытеснившее прежнее, природное — Эрик Артур Блэр, аристократическое и изысканное. Замена глубоко продумана: Джордж — синоним англичанина, Оруэлл — река в северной английской деревушке. Имя — «всехнее», простое, грубоватое по артикуляции.
Виктория Чаликова
laughter lines run deeper than skin (с)
Занятнее всего читать, как автор доказывает, что советский строй не так безнадежен, как утописты его малюют - когда дотикивают последние годы этого строя... В этом тоже они, восьмидесятые. Но при этом для меня статья ценна и этим отсутствием "однозначной конкретности", вставания на сторону того, что сейчас признано общепринятым.
Зеркала антиутопий
Жанры создает время. Во всяком случае, оно предоставляет условия наибольшего благоприятствования одним жанрам, сдерживая рост других. Это происходит помимо авторских пристрастий, а нередко — и вопреки общественным обстоятельствам. Как раз обстоятельства чаще всего ничуть не помогают новому жанру развиваться незатрудненно, зато искусственно поддерживают существование исчерпанных форм. Но есть духовные запросы, слишком настоятельно требующие художественного воплощения. И перед этой потребностью все остальное, в конечном счете, бездейственно.
XX век был для литературы, среди многого иного, веком антиутопий. Теперь это видно совершенно отчетливо, и более или менее проясняются причины, в силу которых пережил свой расцвет жанр, никогда прежде не обладавший ни такой притягательностью, ни таким престижем. Причины заключаются в характере исторической реальности этого столетия. Оно нуждалось в антиутопиях, чтобы осознать самое себя. Увидели это далеко не сразу и не все, но там, где господствовало сомнение, постепенно воцарилась уверенность.
Произошло это, в частности, и оттого, что стремительно ускорившиеся темпы социального развития позволили уже в наше время проверить свершившимся прогнозы, сделанные всего несколько десятилетий тому назад, и удостовериться если не в абсолютной их точности, то в верности исходных посылок. Творцы великих утопий прошлого — Томас Мор, например, или Владимир Одоевский — подразумевали такое состояние вещей, которого общество, быть может, достигнет лишь в очень отдаленном будущем. Антиутопии XX века родились не из теоретических размышлений о вероятном, но из наблюдения над текущим, над историей, ломавшейся круто и драматически. И в них изначально не было ни следа кабинетной абстракции. Читая эти книги, мы думаем не о грядущих тысячелетиях, но о том, что день за днем тревожит нас самих. Мы узнаем в этих книгах собственный опыт.
читать дальше
Алексей Зверев
Зеркала антиутопий
Жанры создает время. Во всяком случае, оно предоставляет условия наибольшего благоприятствования одним жанрам, сдерживая рост других. Это происходит помимо авторских пристрастий, а нередко — и вопреки общественным обстоятельствам. Как раз обстоятельства чаще всего ничуть не помогают новому жанру развиваться незатрудненно, зато искусственно поддерживают существование исчерпанных форм. Но есть духовные запросы, слишком настоятельно требующие художественного воплощения. И перед этой потребностью все остальное, в конечном счете, бездейственно.
XX век был для литературы, среди многого иного, веком антиутопий. Теперь это видно совершенно отчетливо, и более или менее проясняются причины, в силу которых пережил свой расцвет жанр, никогда прежде не обладавший ни такой притягательностью, ни таким престижем. Причины заключаются в характере исторической реальности этого столетия. Оно нуждалось в антиутопиях, чтобы осознать самое себя. Увидели это далеко не сразу и не все, но там, где господствовало сомнение, постепенно воцарилась уверенность.
Произошло это, в частности, и оттого, что стремительно ускорившиеся темпы социального развития позволили уже в наше время проверить свершившимся прогнозы, сделанные всего несколько десятилетий тому назад, и удостовериться если не в абсолютной их точности, то в верности исходных посылок. Творцы великих утопий прошлого — Томас Мор, например, или Владимир Одоевский — подразумевали такое состояние вещей, которого общество, быть может, достигнет лишь в очень отдаленном будущем. Антиутопии XX века родились не из теоретических размышлений о вероятном, но из наблюдения над текущим, над историей, ломавшейся круто и драматически. И в них изначально не было ни следа кабинетной абстракции. Читая эти книги, мы думаем не о грядущих тысячелетиях, но о том, что день за днем тревожит нас самих. Мы узнаем в этих книгах собственный опыт.
читать дальше
Алексей Зверев
laughter lines run deeper than skin (с)
... хотя этот сборник попался мне очень давно на каком-то книжном развале - как раз в тот момент, когда возможность в первый раз прочесть Оруэлла, Замятина и Хаксли, да еще в одном издании, оказалась мне очень кстати. Да еще к ним были целых три статьи, которые я и положу себе в коллекцию, удивляюсь, почему этого до сих пор не сделано. Ох и не под каждым словом я в них подпишусь, особенно в этом посте... но ценно, по-моему, не только для понимания антиутопий, а заодно всего двадцатого века заодно, но и для понимания специфически конца восьмидесятых - во всяком случае, того материала, на котором, пожалуй, формировалось тогда личное мое мышление, это точно 
Обратная сторона обложки, без указания автора
«…Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики, - писал Евгений Замятин (1884-1937) в знаменитом эссе «Я боюсь» 1921 года. – А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс, - тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра заворачивают глиняное мыло».
Антиутопии во все времена создавали еретики. Не-безумцу написать антиутопию невозможно.
Роман-предупреждение – весьма склочный и неуживчивый литературный субъект: он не терпит чарующих грез и ностальгических видений. Наилучшее самочувствие антиутопия обретает в обществе себе подобных. Соседство бунтаря Замятина, отшельника Оруэлла и скептика Хаксли – приемлемый вариант литературного «уплотнения» на площади одной квартиры-книги. Кстати, слова «бунтарь», «отшельник» и «скептик» в данном контексте можно свободно менять местами.
читать дальше
Чем вымощена дорога в рай?
Антипредисловие
Не бойтесь сумы, не бойтесь тюрьмы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет – я знаю, как надо!
А. Галич
Один вопрос для нас пока остается открытым. Почему фантастика практически во всех своих воплощениях, даже самых верноподданнических, вызывала, да и что греха таить, вызывает глухое раздражение идеологов и практиков Административной Системы и просто лютую ненависть – вершителей Аппарата? Почему долгие годы «Собачье сердце» М.Булгакова ходило только в списках, «Улитка на склоне» А. и Б.Стругацких в ксерокопиях, а «Час быка» И.Ефремова вышел в обкорнанном виде? Почему масса рукописей талантливых молодых авторов не проходит редакторских заслонов и издательских кордонов? Рискуя ошибиться, выскажу предположение. С фантастической сатирой все более или менее ясно, фантастическое здесь – прием, усиливающий актуальность, злободневность, а сатира – нож острый для любой иерархии. Что же касается так называемой научной фантастики, этого незаконнорожденного плода любви готического романа и научно-популярного очерка, то с ней дело обстоит трагичнее. В своих произведениях, даже самых низкопробных, бездумно-нафантазированных, она невольно расшатывает стабильность миропорядка и, более того, посягает, не подозревая своего греха, на одну из важнейших прерогатив власти Административной Системы. А именно: каким быть будущему – знает и определяет Аппарат, и только он! Никому из копошащихся во прахе смертных не дано знать будущего – оно вынашивается в тиши кабинетов, проговаривается в тени кулуаров и выписывается в уюте заповедных дач.
Эдуард Геворкян

Обратная сторона обложки, без указания автора
«…Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики, - писал Евгений Замятин (1884-1937) в знаменитом эссе «Я боюсь» 1921 года. – А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс, - тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра заворачивают глиняное мыло».
Антиутопии во все времена создавали еретики. Не-безумцу написать антиутопию невозможно.
Роман-предупреждение – весьма склочный и неуживчивый литературный субъект: он не терпит чарующих грез и ностальгических видений. Наилучшее самочувствие антиутопия обретает в обществе себе подобных. Соседство бунтаря Замятина, отшельника Оруэлла и скептика Хаксли – приемлемый вариант литературного «уплотнения» на площади одной квартиры-книги. Кстати, слова «бунтарь», «отшельник» и «скептик» в данном контексте можно свободно менять местами.
читать дальше
Чем вымощена дорога в рай?
Антипредисловие
Не бойтесь сумы, не бойтесь тюрьмы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет – я знаю, как надо!
А. Галич
Один вопрос для нас пока остается открытым. Почему фантастика практически во всех своих воплощениях, даже самых верноподданнических, вызывала, да и что греха таить, вызывает глухое раздражение идеологов и практиков Административной Системы и просто лютую ненависть – вершителей Аппарата? Почему долгие годы «Собачье сердце» М.Булгакова ходило только в списках, «Улитка на склоне» А. и Б.Стругацких в ксерокопиях, а «Час быка» И.Ефремова вышел в обкорнанном виде? Почему масса рукописей талантливых молодых авторов не проходит редакторских заслонов и издательских кордонов? Рискуя ошибиться, выскажу предположение. С фантастической сатирой все более или менее ясно, фантастическое здесь – прием, усиливающий актуальность, злободневность, а сатира – нож острый для любой иерархии. Что же касается так называемой научной фантастики, этого незаконнорожденного плода любви готического романа и научно-популярного очерка, то с ней дело обстоит трагичнее. В своих произведениях, даже самых низкопробных, бездумно-нафантазированных, она невольно расшатывает стабильность миропорядка и, более того, посягает, не подозревая своего греха, на одну из важнейших прерогатив власти Административной Системы. А именно: каким быть будущему – знает и определяет Аппарат, и только он! Никому из копошащихся во прахе смертных не дано знать будущего – оно вынашивается в тиши кабинетов, проговаривается в тени кулуаров и выписывается в уюте заповедных дач.
Эдуард Геворкян
laughter lines run deeper than skin (с)
Очередное прозрение невизуала: датские кинематографисты, оказывается, коваааарны 
Так прятать такое лицо!
Сюжет фильма "Королевский роман" резюмируется куплетом:
"Ах, короли, короли, короли,
Ах, короли благородные,
Было дано вам, а вы не смогли,
Чучела вы огородные!"
Про то, как волею судеб к двум очень высокопоставленным, но не очень счастливым детям молодежного возраста, неуютно сидящим на маленьком датском троне, пришел из гущи жизни один умный, добрый и _взрослый_ человек. И про то, как все они втроем попытались кое-что поделать, чтобы жизнь стала лучше, но, когда только-только стало получаться, последовал трагический финал. Скорее из-за придворной клики, чем из-за внутритреугольных их заморочек, хотя в том числе и из-за них. Во всяком случае, про это фильм - кажется, в подаче материала немало от очередной "просвещенческой легенды", и как там было в истории, намеренно не стараюсь узнать. С другой стороны, чем-то похоже на "Король говорит" - только в данном случае "король выступает перед парламентом", а удается это ему только с условием, что он представляет себя актером на сцене. А королева пишет ему роль вместе с его наставником, пребывая с ним в одной постели... собственно, что и служит детонатором для проблемной ситуации.
Зато оспу они действительно всей стране успели привить.
Но озвучки на языке оригинала мне уже в фильмах начинает не хватать. Даже при том, что в этом фильме и нет Линдхардта с его голосом, а то пришлось бы лезть на стенку. С другой стороны, будь Линдхардт в фильме, моя крыша улетела бы уже в другом направлении... У меня и так слов нет, есть раз видеоцитата - про шекспировские чтения
video.yandex.ru/users/fgpodsobka/view/26/#
и два видеоцитата - про высокие-высокие треугольные отношения
video.yandex.ru/users/fgpodsobka/view/27/#
А про трогательную королеву, которая стоит под дождем и вспоминает родную Англию, лучше смотреть непосредственно фильм
И финал меня по-хорошему удивил. Крошка сын к отцу пришел и сказал "верни престол"... И вежливо сдвинутый с престола папа пошел и вернул. А сын осуществил все их реформы с более долговременным эффектом. Потому что история - все-таки _движущийся_ процесс

Так прятать такое лицо!
Сюжет фильма "Королевский роман" резюмируется куплетом:
"Ах, короли, короли, короли,
Ах, короли благородные,
Было дано вам, а вы не смогли,
Чучела вы огородные!"
Про то, как волею судеб к двум очень высокопоставленным, но не очень счастливым детям молодежного возраста, неуютно сидящим на маленьком датском троне, пришел из гущи жизни один умный, добрый и _взрослый_ человек. И про то, как все они втроем попытались кое-что поделать, чтобы жизнь стала лучше, но, когда только-только стало получаться, последовал трагический финал. Скорее из-за придворной клики, чем из-за внутритреугольных их заморочек, хотя в том числе и из-за них. Во всяком случае, про это фильм - кажется, в подаче материала немало от очередной "просвещенческой легенды", и как там было в истории, намеренно не стараюсь узнать. С другой стороны, чем-то похоже на "Король говорит" - только в данном случае "король выступает перед парламентом", а удается это ему только с условием, что он представляет себя актером на сцене. А королева пишет ему роль вместе с его наставником, пребывая с ним в одной постели... собственно, что и служит детонатором для проблемной ситуации.
Зато оспу они действительно всей стране успели привить.
Но озвучки на языке оригинала мне уже в фильмах начинает не хватать. Даже при том, что в этом фильме и нет Линдхардта с его голосом, а то пришлось бы лезть на стенку. С другой стороны, будь Линдхардт в фильме, моя крыша улетела бы уже в другом направлении... У меня и так слов нет, есть раз видеоцитата - про шекспировские чтения
video.yandex.ru/users/fgpodsobka/view/26/#
и два видеоцитата - про высокие-высокие треугольные отношения
video.yandex.ru/users/fgpodsobka/view/27/#
А про трогательную королеву, которая стоит под дождем и вспоминает родную Англию, лучше смотреть непосредственно фильм

И финал меня по-хорошему удивил. Крошка сын к отцу пришел и сказал "верни престол"... И вежливо сдвинутый с престола папа пошел и вернул. А сын осуществил все их реформы с более долговременным эффектом. Потому что история - все-таки _движущийся_ процесс

понедельник, 31 декабря 2012
laughter lines run deeper than skin (с)

Радости, вдохновения, много-много здоровья и душевных сил, чтобы все мечты сбывались, планы реализовывались, а приятные сюрпризы удавалось ощутить всей душой!

воскресенье, 30 декабря 2012
laughter lines run deeper than skin (с)
Из пулеметной речи девушки в маршрутке, пересказывающей сценарий новогоднего праздника, материализовался персонаж - Баба-Ягурочка. Даже и не знаю, какая сторона в этом существе должна преобладать 
и еще в тему неортодоксальных снегурочек
читать дальше
А поздравить по-хорошему очень надеюсь завтра

и еще в тему неортодоксальных снегурочек
читать дальше
А поздравить по-хорошему очень надеюсь завтра

laughter lines run deeper than skin (с)
laughter lines run deeper than skin (с)
laughter lines run deeper than skin (с)
laughter lines run deeper than skin (с)
laughter lines run deeper than skin (с)
laughter lines run deeper than skin (с)
laughter lines run deeper than skin (с)
laughter lines run deeper than skin (с)