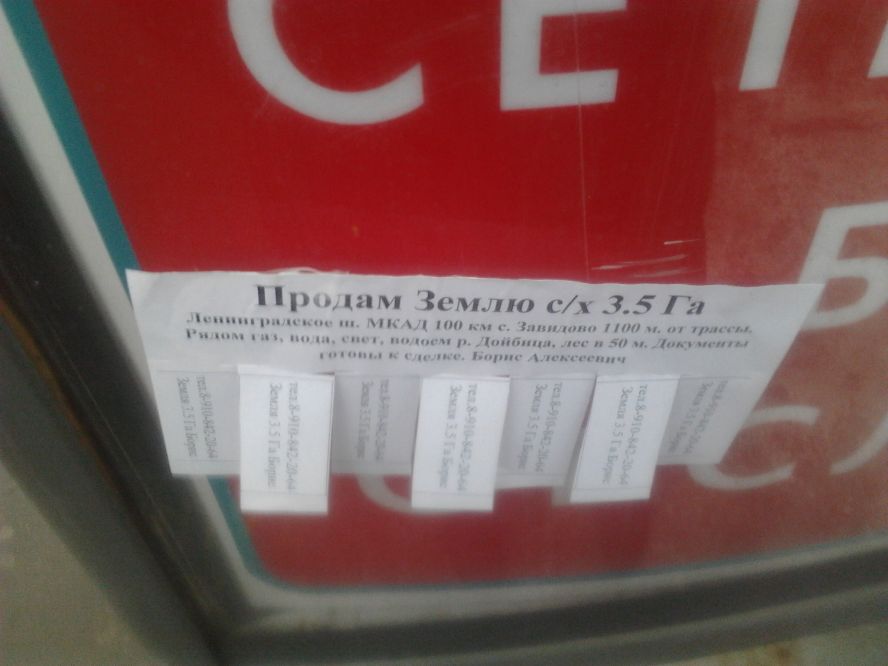*это телефон замазан*




 Чего стоит одна фраза "в пылу атаки обе стороны миновали позиции друг друга, и для того, чтобы продолжить бой, были вынуждены повернуть назад"
Чего стоит одна фраза "в пылу атаки обе стороны миновали позиции друг друга, и для того, чтобы продолжить бой, были вынуждены повернуть назад" 


 Так вот, автор сих строк дозрел, чтобы тыкнуть пальцем - вот оно как было... Хотя, наверное, это уж скорее латикирица
Так вот, автор сих строк дозрел, чтобы тыкнуть пальцем - вот оно как было... Хотя, наверное, это уж скорее латикирица 

 неужели из "Униты"? )
неужели из "Униты"? )