Да потому что вкусные они!
картинка
рассказка
Ссылка (нашлась недавно в процессе поиска глюков)



 ...
...

 Что игровое в плане словесное - во всяком случае, весьма надеюсь.
Что игровое в плане словесное - во всяком случае, весьма надеюсь. 
 продержали на такой раскаленной сковородке, так дозированно выдавая информацию, и одновременно сделали мне страшно и красиво (в том числе и как любителю логики и деталей)... Определенно, они прибавились к моей жизни, а не отнялись. И такая знакомая команда в титрах...
продержали на такой раскаленной сковородке, так дозированно выдавая информацию, и одновременно сделали мне страшно и красиво (в том числе и как любителю логики и деталей)... Определенно, они прибавились к моей жизни, а не отнялись. И такая знакомая команда в титрах... 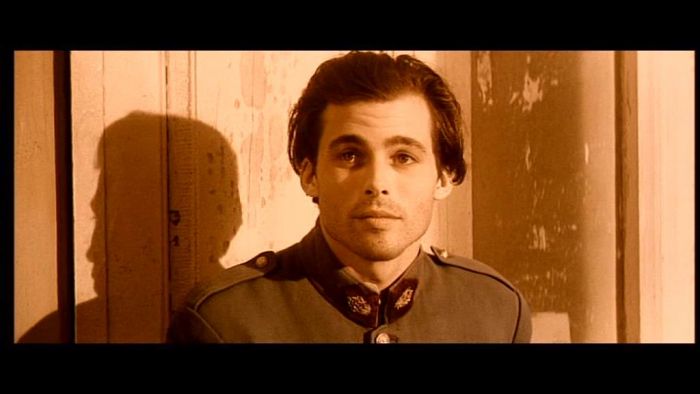
 Сам шел туда без спойлеров, и всем, кто туда пойдет, того же желаю.
Сам шел туда без спойлеров, и всем, кто туда пойдет, того же желаю.  Желательно сознательное стремление посмотреть, что такое тренинг личностного роста (и какими методами он получается, а какими - точно нет). И еще желательно подсознательное стремление быть жжостко отыметым в душу (и готовность к рейтингу, пожалуй, что и NC-17). Не бойтесь, иногда это полезно. Особенно если упомянутая душа слишком уж нацеливается на последующую вакансию в преддверии ада: может быть, именно этот опыт сможет толкнуть ее нацеливаться повыше или хотя бы пониже... Тем более, что иметь будут не конкретно зрителя - что, возможно, оказывается для зрителей полезнее, чем для имеемых участников, так и не доведенных до оргазма...
Желательно сознательное стремление посмотреть, что такое тренинг личностного роста (и какими методами он получается, а какими - точно нет). И еще желательно подсознательное стремление быть жжостко отыметым в душу (и готовность к рейтингу, пожалуй, что и NC-17). Не бойтесь, иногда это полезно. Особенно если упомянутая душа слишком уж нацеливается на последующую вакансию в преддверии ада: может быть, именно этот опыт сможет толкнуть ее нацеливаться повыше или хотя бы пониже... Тем более, что иметь будут не конкретно зрителя - что, возможно, оказывается для зрителей полезнее, чем для имеемых участников, так и не доведенных до оргазма... 
 В моих глазах риск постановки оправдался.
В моих глазах риск постановки оправдался.